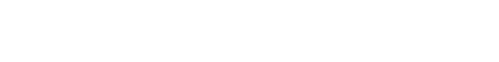Шукшин не относится к таким писателям, которых у нас много ставят. Скорее, на нашей сцене он такой... — «залетный». Потому что слишком «корябает» по живому, неудобный, не укладывается в рамки, не «модный».

И поэтому странно, что новый худрук тургеневского театра Игорь Черкашин выбрал для своей режиссерской презентации в Орле именно рассказы Шукшина. Невыигрышный материал. Ни тебе эффектных костюмов (какой там эффект в нашей деревне? сапоги да телогрейки...), ни хитросплетений сюжета (подумаешь, герой бабе сапоги купил!), ни раздеваний, ни убийств... Сплошное разочарование для привыкших к сериальным «изыскам» зрителей.
И, правда, редок Шукшин на русской сцене. Но если уж появится... Дух замирает от его слова — как от ледяной родниковой воды; забирает за самое сердце, и горько, и сладко становится от самосознания, от узнавания, и еще от чего-то такого — шукшинского, щемящего... Как говорил национальный классик: «Это всё мне родное и близкое, от чего так легко зарыдать»...
И вроде немудреное, без вывертов, а не сомневаешься — это подлинное, самое что ни на есть настоящее, без фокусов, искусство.
Вот так и поставил Шукшина на орловской сцене Игорь Черкашин: выбрав своим стилем «непростую простоту».
А, надо сказать, это высокая планка. Много мы знаем спектаклей, где бы режиссер избежал соблазна посмешнее похохмить или посмачнее попошлить? Ну, чтобы уж наверняка зритель не скучал. Тем более про деревню. Да это ж можно так разухабисто-цветисто подать — не хуже, чем в «Сватах»! Да и мы, зрители, уже настолько привыкли к эстраде на театре, что постановка без «трюков» кажется нам пресной, как пища без приправ. Так, после спектакля «Пост Скриптум. P.S.» один мой знакомый театрал разочарованно сказал: «Эх, тут можно было так изобретательно поиграть!». Он не понял, что как раз вот этой самой «изобретательности» и старался избегать постановщик: девиз Игоря Черкашина в спектакле по шукшинской прозе — бесхитростность.
Его «Песня о Родине» поется не в изысканно-оперной, но в народной манере — просто, естественно, открытым голосом. Как и народный исполнитель, постановщик не выпячивает себя, чтобы зритель то и дело ахал, «какой изобретательный режиссер!», забыв о сути и размышляя лишь о трюках. В спектакле Черкашина зритель не подмечает «швов», которыми сшито действие, а, затаив дыхание, следит за жизнью на сцене. Режиссер ненавязчиво, без назойливой «самости» и «трактовки», легко, эскизно материализует гениальный шукшинский текст, который настолько самодостаточен, что не нуждается в дополнительном расцвечивании. Но! — нуждается в режиссерской культуре; и это качество у Игоря Черкашина, выпускника театрального института имени Б. Щукина, наличествует безусловно.
...На черном фоне задника ярко белеют грубо сколоченные из березовых жердей козлы для распилки дров, жарко светится желтым подсыхающая на березовых распорках копна. Взгляд приковывает огромная фотография зреющей нивы, уходящей в пронзительно-синее небо. Вот и вся — простая, но функциональная — декорация, придуманная сценографом Юрием Соповым. По ходу спектакля козлы будут трансформироваться то в ограду, которую облепляет любопытная «массовка», то в стол и прочую домашнюю мебель, то в церковный остов, а то и в трактор с тележкой. «Отыграет» свое и копна: в одной из представленных новелл ей предстоит послужить даже куполом церкви.
Столь же продуманно бесхитростны и костюмы актеров — хотя жители деревни начала 60‑х одеты уже не бедно, видно, что в семьях уже есть достаток, но излишества в виде изысканных сапожек появляются в доме в особых, исключительных случаях. Настолько исключительных, что это становится событием, главной темой целого шукшинского рассказа.
Думается, показательную бесхитростность постановщики взяли во главу угла не случайно: в спектакле сильна тема неприятия потребительства, что царит в наши дни. «К сожалению и ужасу, наша эпоха вполне может быть названа эпохой вещизма и потери самого понятия общечеловеческих ценностей, — пишет современный философ. — Жажда потребления, кажется, полностью завладела умами людей, и в погоне за приумножением своего вещественного богатства люди забыли обо всем добром, светлом и бескорыстном».
Вот это самое «доброе, светлое и бескорыстное» в шукшинских героях живо и трогает нас так остро именно потому, что все эти нематериальные сокровища — в погоне за материальными — современным человеком во многом утрачены.
Эта разница между нами и теми, из 60‑х, чувствуется уже в самом первом (из шести инсценированных в спектакле) рассказе. В рассказе «Сапожки» вроде и действие-то крутится вокруг дорогой вещи. Но речь идет не о вещи, не о деньгах, за нее выложенных, — нет, о трудяге, который, может быть, впервые в жизни решился купить такой дорогой подарок жене — считай, почти на всю свою небогатую зарплату; о любви там идет речь, только не прямо, не в лоб.
Нигде автор не произносит слово «любовь», даже там, где обращается напрямую к читателю («Нет, не в сапожках дело, конечно, дело в том, что...»). Но и тут Шукшин целомудренно умолкает на половине фразы. Дело актера — договорить эту фразу: взглядом, жестом, движением... И актеры тургеневского театра — Сергей Аксиненко, Нинель Галченко — справились с этим тонко, достойно, конгениально Шукшину. Т. е., не переигрывая, не прибегая к «сильным» эффектам.
Тонкие режиссерские ходы, как подводное течение, выносят на поверхность не только актерские достоинства того или иного исполнителя, но и неожиданные смыслы роли — порой только одним точным назначением актеров. Вот актер Андрей Царьков в роли учителя в рассказе «Крепкий мужик»: настоящий сельский интеллигент, поднявший деревню на защиту церкви, своего рода духовный глава для селян. А вот чуть позже тот же Царьков в рассказе «Микроскоп» — затюканный ежедневными семейными заботами, «вламывающий» по полторы смены деревенский столяр, который решился бунтовать против обыденщины, бросил пить и возмечтал стать «ученым». Эти герои Царькова — такие разные, но не антиподы, что-то неуловимо делает их похожими, они как бы продолжают друг друга.
А вот Виктор Межевикин в главной роли в рассказе «Крепкий мужик»: жесткий, предельно уверенный в себе (в стремлении уничтожить церковь противостоял целой деревне), бесчувственный до тупости (даже причитания матери его не тронули). И Межевикин в рассказе «Залетный»: хоть по сюжету это другой герой, с другими именем и фамилией, но кажется, что это персонаж из предыдущего рассказа, только прошедший горнило сомнений, уже задумывающийся о смысле жизни, растерянный перед вечной тайной инобытия. Такое ощущение, что на наших глазах проходит эволюция человека — от гомо советикус до гомо гуманус. Такой постскриптум ушедшей «безбожной» эпохи.
Надо сказать, преображение актеров нашего драмтеатра тоже можно назвать своего рода «постскриптумом». Многие годы «недолюбленные» (характеристика труппы от нового худрука), они неузнаваемо изменились в шукшинском спектакле. Стилистика спектакля или сама манера работы нового режиссера так их изменили? Мы увидели живых людей на сцене, без натянутостей, без ложных поз и мелодраматических жестов, без приторных или, другая крайность, громовых голосовых модуляций. Куда подевался весь этот потрепанный «джентельменский набор» провинциального артиста? И откуда прорезалось внезапно открывшееся актерское обаяние? А красота актрис?! Целая плеяда ярких женских образов заиграла, заискрилась в «Пост Скриптуме». Мы не просто их заметили, — ахнули! Нинель Галченко, Елена Полянская, Татьяна Попова... Как им к лицу скромные деревенские наряды! Было очевидно, что актеры, как говорится, «купаются в материале», им комфортно на сцене, и это не могло не передаваться в зал, зрителю.
И при всем при этом, однако, спектакль Черкашина — не умильная картинка. Хотя у постановщика шукшинской «деревенской прозы» всегда есть искушение соскользнуть в лубок — изобразить сахарно-пряничных селян во вкусе «Кубанских казаков». Да, в спектакле «Пост Скриптум. P.S.» присутствует ностальгия по временам СССР (буквы P.S. невольно читаются как «пост советское»), заметно любование режиссера коллективистским духом той эпохи (мизансцены без массовки единичны: всюду присутствует эдакий «хор» народа — комментирующий, осуждающий, сострадающий)... Однако «Песня о Родине» Игоря Черкашина не ограничивается только мажорными аккордами. Изумил, например, его выбор финального рассказа. Ну, казалось бы, ничего более невыигрышного, чем рассказ «Залетный», для финала не придумаешь: надрывно-пессимистичное, с жуткими подробностями описание тоски умирающего человека. Но тут перед нами встает объемный, неоднозначный образ человека нравственного, думающего, неуспокоенного, не довольствующегося только добыванием хлеба насущного, преклоняющегося перед красотой и целесообразностью мира. «Смерть позволяет понять нам, что жизнь — прекрасна. И это совсем не грустно, нет...».
Не бездарна та природа,
Не погиб еще тот край,
Что выводит из народа
Столько славных —
то и знай,
Столько добрых,
благородных,
Сильных любящей
душой...
Эта классическая некрасовская строка сама пришла на память после спектакля. Потому что оптимистично-радостно на душе от непростого «Пост Скриптума» Черкашина. Верится, что с таким народом рано ставить точку. Всё главное еще впереди. То же думается и о нашем тургеневском театре.
Источник: еПресса